персонажи, которым рады и уже знают что будут играть с ними ♥ // персонажем, на которого выкуплена заявка, нельзя прийти без одобрения заказчика // неактуальные заявки уносятся в архив заявок; черканите амс, чтобы вернуть // [!] одна заявка - один персонаж |
FANDOM NAME
NAME SURNAME имя персонажа Все, что вы хотите сказать о персонаже. Ваши пожелания к игроку, задумки и прочее, что считаете нужным упомянуть. |
Код:[table layout=fixed width=100%] [tr] [td][/td] [td width=76%] [align=right][size=14][b]FANDOM NAME[/b][/size][/align] [align=center][img]https://i.imgur.com/5uVWWuM.png[/img][/align] [size=14][b]NAME SURNAME[/b][/size] [size=11][sup]имя персонажа[/sup][/size][hr] Все, что вы хотите сказать о персонаже. [hr] Ваши пожелания к игроку, задумки и прочее, что считаете нужным упомянуть. [/td] [td][/td] [/tr] [/table]



































 х
х











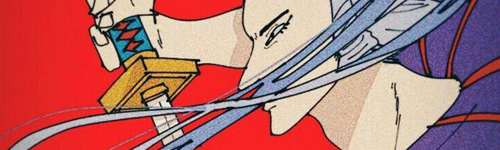












![de other side [crossover]](https://i.imgur.com/BQboz9c.png)























